Известно, что Изи Харик бился головой в стену камеры и кричал на идиш: «За что? За что?»
Пишет Анна Северинец.
Сегодня снова много пишут о Куропатах, в том числе — и разного рода охлаждающих фраз вроде «весь Минск на костях», «большая охранная зона», «экспроприация» и так далее. Все понимаю, и даже владельцев «Бульбашъ-холла» в чем-то понимаю: они вложили в строительство такие деньги, которые выжигают внутри человека любую совесть. Я о другом постоянно думаю.
Я занимаюсь ими, теми людьми, кто там, вероятно, лежит. Биографистика — захватывающая наука, и жизнь моих героев порой начинает казаться мне совершенно ощутимой, видимой, иногда мне кажется, я знаю даже их сны и воспоминания, потому что все время имею дело с их письмами, произведениями, документами, дневниками, мемуарами, издательскими договорами, метриками, гимназическими ведомостями… Конечно, я думаю о том, как они умирали.
Где-то я прочитала: «Как ждали смерти наши писатели? Какие песни они пели в камере?»
Я не думаю, что они пели песни. Это романтизированный взгляд на смерть, воспитанный в нас советскими фильмами о героях. Сегодня есть некоторое количество более правдивых текстов о том, что делает человек в камере смертников. Человеку страшно, у него может сильно болеть живот. Он может думать о том, сколько времени он не любил — и уже никогда не полюбит — женщину. Известно свидетельство Майсея Седнёва со слов человека, который каким-то невероятным образом избежал смертного приговора и был переведен 28 октября из камеры смертников в обычную камеру, о том, что в той камере остались Зарецкий и Дудар, и они надеялись на помилование. Известно, что Изи Харик бился головой в стену камеры и кричал на идиш: «За что? За что?» Известно, что Платон Головач оставил записку: «История еще скажет правду про нас». Известно, что Михась Чарот вырезал на стене камеры последнее свое стихотворение — «Прысяга».
Но как было в Куропатах и было ли это вообще в Куропатах — мы не знаем. Их могли посадить в душегубки, отравить газом и сбросить в яму уже мертвыми — в 1937 такое практиковалось, — расстрелять за ночь 100 человек — дело сложное. Их могли привозить по двадцать, сажать на край ямы, в которой уже лежали предыдущие двадцать — и стрелять по очереди, посадив последним какого-нибудь самого для них неприятного, самого упорного, того, кто и в машине смотрел злыми глазами, чтобы услышал все девятнадцать выстрелов, пока дойдет до него.
Из них всех знаю лучше всего Дудара. О нем я боюсь думать. Говоря по правде, если ты два года занимаешься тем, чтобы вернуть человеку его жизнь, трудно думать о смерти, но оно иногда думается. И я думаю, что, сидя у той последней своей черты, ожидая затылком выстрел, он закрыл глаза и глубоко дышал. Вдох — выдох. Вдох — выдох. Выстрел — вдох. Выстрел — выдох. Он был мужественным человеком. Говорят, он не особенно сотрудничал со следствием (говорят и иное), к тому же проходил по документам следствия как руководитель национал-фашистской организации — наряду с Чаротом и Зарецким. Его вполне могли посадить на краю ямы последним. Он долго дышал. Если так долго глубоко дышать — в голове происходит такое, будто ты сильно пьян.
Просто такие вот мысли. Пусть о них знают те, кто поедет обедать в Куропаты.



























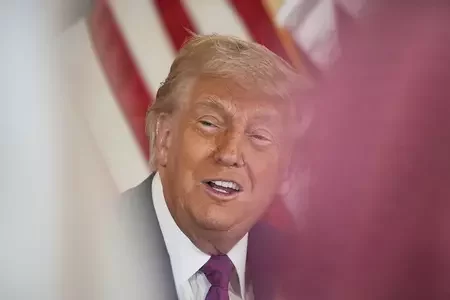


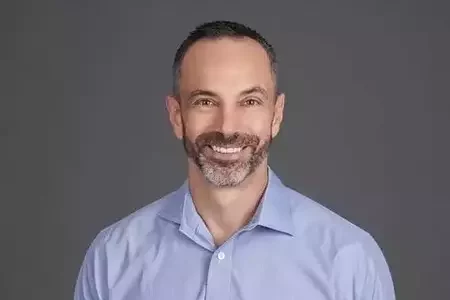








Комментарии