«Как Вольский приходил с обыском к Коласу, а Крапива и Глебка доносили на коллег». Опубликованы ужасные воспоминания Григория Берёзкина о репрессиях 1920—1940-х
Как Виталий Вольский арестовывал людей и приходил с обыском к Якубу Коласу, а Кондрат Крапива и Петр Глебка доносили на коллег. Опубликованы две части конспекта воспоминаний Григория Берёзкина, одного из лучших критиков и литературоведов Беларуси, пишет «Радыё Свабода».

«Не дай пропасть моей жизни» — это воспоминания о событиях 1920—1949 годов: аресты, высылки, репрессии.
В 1979 году Берёзкин надиктовал их московскому литературоведу Исааку Крамову. Недавно их расшифровала Маруся Шанаурина, работающая с архивными материалами.
Разговор Григория Берёзкина с Исааком Крамовым состоялся 13 марта 1979 года. Крамов записал его в двух толстых тетрадях, часто неразборчиво. Исаак Крамов не успел сам рассказать об этой записи: он внезапно скончался 23 октября 1979 года в Ялте, куда взял с собой те материалы, чтобы работать с ними. Григорий Берёзкин ненадолго пережил друга — после тяжелой болезни он скончался 1 декабря 1981 года, — вспоминает Шанаурина в предисловии к воспоминаниям Берёзкина.
«Когда Берёзкин приходил к нам домой, я хорошо это помню — они с папой всю ночь просидели, папа записывал за ним, и Берёзкин ему сказал: «Изя, не дай пропасть моей жизни».
…Очень тяжело морально читать имена, искать о них информацию, видеть их лица, если сохранились какие-то фотографии. Но память — самое важное. Невозможно забыть о том, сколько человек были убиты, замучены, сломаны…» — написала она.
Первую и вторую части конспекта воспоминаний Григория Берёзкина можно прочитать по ссылкам.
Кто такой Григорий Берёзкин
«Непревзойденный образец того, как нужно писать о белорусской литературе», — это слова Алеся Адамовича о Григории Берёзкине.
Берёзкин — белорусский литературный критик, автор 12 книг.
Родился в 1918 году в Могилёве, учился в Минском педагогическом институте. В 1938 году 20‑летний юноша работал в журнале «Полымя рэвалюцыі», литературным консультантом при Союзе писателей БССР, заведующим отделом критики газеты «Літаратура і мастацтва».
За два месяца до войны, 26 апреля 1941 года, его арестовали сотрудники НКВД. Когда колонну заключенных вывезли из тюрьмы на расстрел, Григорию Берёзкину повезло остаться живым. Он воевал, под Сталинградом был тяжело ранен, получил много государственных наград.
9 августа 1949 года Григория Берёзкина арестовали повторно. В июне 1950 года его осудили на 10 лет. Заключение отбывал в лагерях Казахстана и Сибири чернорабочим на строительстве шахт и электростанций. Освобожден в ноябре 1955 года со снятием судимости.
«Атмосфера того времени передана очень ярко, многоаспектно, ярко»
Пресс-секретарь Международного союза белорусских писателей Тихон Чернякевич много исследовал период, о котором повествует Григорий Берёзкин.
В Беларуси есть большой пласт мемуаров о тех мрачных годах. Много из них опубликовано в советское время, и они, конечно, подпадали под цензуру, в том числе под самоцензуру авторов, выживших в те годы. Что-то они сознательно опускали или не могли полностью искренне говорить, писать, публиковать.
В случае тетрадей Исаака Крамова возникает совсем иная картина — это записывает человек, далекий от белорусских реалий.
«Там немало неточностей, мелких ошибок. Но нет необходимости что-то опускать. Это конспект монолога Берёзкина, который записывался по горячим следам, во время разговора — чтобы потом сделать что-то более обработанное. Это просто сырой материал, который Берёзкин излагал монологом, без привязки к жанру. Ему нужно было выговориться, и он выговаривался неизвестному белорусскому культурному сообществу человеку, чтобы сохранить свои впечатления и воспоминания.
Возможно, Берёзкин сам не мог (или не собирался) писать такую книгу от своего имени. Но атмосфера того времени в его воспоминаниях передана очень ярко и искренне», — говорит Тихон Чернякевич.
«Здесь всё собрано, как в фокус, через линзу одной судьбы»
Николай Романовский, переводчик, исследователь, внук писателя Кузьмы Чорного (который также упоминается в воспоминаниях Григория Берёзкина как честный и порядочный человек), считает, что, несмотря на большое количество уже опубликованных воспоминаний, искать новые стоит и нужно.
«Если говорить коротко — можно и нужно. В воспоминаниях Берёзкина, как на сегодня, нового мало. Сами факты репрессирования конкретных личностей уже известны. Просто здесь всё собрано, как в фокус, через линзу одной судьбы. И высказано без опасений и умолчаний, как бывало у других репрессированных», — считает Николай Романовский.
Виталий Вольский арестовывал отца Григория Берёзкина
Конспект воспоминаний Григория Берёзкина начинается с того, как некогда в писательском доме творчества под Минском очень «солидный интеллигентный человек, знаток природы и истории, прекрасный рассказчик, писатель Виталий Фридрихович Вольский», который некогда работал в ЧК, неожиданно спросил у Берёзкина:
«Вы из Могилёва? Ваша фамилия настоящая — не псевдоним?.. Я арестовывал Вашего отца. С бригадой оперативников из Минска».
Когда его арестовывали перед войной, среди многочисленных доносов я узнал руку Вольского — интеллигентного человека, милого человека… В 30‑м году, будучи ещё писателем, он пришёл с обыском к Якубу Коласу…», — вспоминает Григория Берёзкина.
Позже Берёзкин узнал, что его отец умер в лагере на Северном Урале в 1939 году.
Исследователь Тихон Чернякевич насчёт Виталия Вольского отмечает, что читал о нескольких случаях в архивных документах, а также в воспоминаниях известного художника, мемуариста Евгения Тихоновича (в серии «Белорусская мемуарная литература» издательства «Лимариус» в 2015 году вышла его книга «Портрет столетия». — РС).
«В своих воспоминаниях Евгений Тихонович, который был близок к семье Владислава Голубка, напрямую говорил о Вольском как об одном из тех, кто непосредственно участвовал в арестах. И Голубка терроризировали (не говорю «репрессировали», потому что не люблю этого слова)…
Это террор, это преступление против людей. Есть свидетельства, что руководство тогдашних культурных учреждений причастно (а Вольский тогда возглавлял Институт литературы — хотел он того или нет, должен был проводить политику партии в «очистке», как они тогда это называли, своих рядов от нежелательных элементов). Вот и определенные свидетельства, что конкретно о Вольском, есть не только в воспоминаниях Берёзкина», — рассказывает Тихон Чернякевич.

«Кондрат Крапива и Пётр Глебка — доносчики»
Еще фрагмент воспоминаний Григория Берёзкина, записанных Исааком Крамовым:
«Кондрат Крапива и Пётр Глебка — тоже доносчики. Была организация «Узвышша» — поэты и прозаики, критики. Хотели создавать национальную белорусскую советскую литературу. Начали разоблачать — Глебка, Крапива, члены организации — Бабареко, Пуща, Дубовка были арестованы. Крапива и Глебка имели успех, писали разоблачительные статьи, письма — как отказываются, признают ошибки…
…Крапиву купили. Он был связан по рукам и ногам. Крапива знал, что предал друзей.
В 1934 году Крапива пишет пьесу «Конец дружбы»: жили двое друзей, двое коммунистов, участников гражданской войны. Один друг разоблачает другого в партийной чистке — интересы партии выше дружбы и любви. Это классовая категория. Лучший друг разоблачает своего друга, который спас ему жизнь на фронте: это оправдывало отношения с друзьями, его предательство», — так записал Крамов это воспоминание Берёзкина.
Григорий Берёзкин также вспоминает, как поэт Владимир Дубовка вернулся после 29 лет тюрем и высылки — седой, постаревший.
«По возвращении встретились — Дубовка говорит, что собирается переехать в Москву.
— Зачем? — говорю. — Ты же белорусский поэт.
— Не могу жить в одном городе с Кондраткой».
О классике Кондрате Крапиве есть немало мемуарных упоминаний, в частности, о том, как он участвовал в помощи развала «Узвышша», как отделял себя от тех, кто потом стал изгнанниками и жертвами — многие из «узвышэнцев» погибли в лагерях, говорит Тихон Чернякевич.
«Этот человек решил полностью встать на партийную линию, идти по ней от начала до конца, а партийные задания выполнял старательно и точно.
Когда-то Пономаренко (Пантелеймон Пономаренко в 1938—1947 годах был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. — РС) собирал писателей и говорил: «Давайте выпустим Андрея Александровича, есть такая возможность». Есть свидетельства, что Крапива сказал: «Пусть сидит, где сидит».
Что касается Дубовки, я думаю, что он знакомился с материалами дела, и если он говорил эти слова — «не хочу жить в одном городе с Кондраткой» — на то были веские причины. Всё же с 1930‑го до конца 1950‑х Дубовка находился в заключении и высылке — это чуть ли не половина его жизни», — рассуждает Тихон Чернякевич.
«О Чорном правдоподобно» — внук писателя Николай Романовский
Кузьму Чорного Григорий Берёзкин называет «лучшим белорусским прозаиком, воплощением духа языка, серьезным писателем». В 1938 году Кузьму Чорного неожиданно арестовали.
«Он был перепуган до кошмара. Член «Узвышша». Делает уступки, пишет угодливые вещи — одно: уйти из-под топора. Делиться — боялся. Но было видно: страх. Его психология творческая тех лет. Чорный пишет роман «Бацькаўшчына». Немец — в центре — который добыл родину в Беларуси…
Чорного быстро выпустили. Когда вышел, бросился мне на шею: — Спасибо, брат. (Ему давали читать показания разных людей на него)…
Чорного пытали.
… У Кузьмы в дневниках запись военных лет: «Сегодня пришёл ко мне Ури Финкель (еврейский писатель). Я встал на колени перед ним перед страданиями его народа». (Детей Финкеля сожгли немцы в городке)
Умер в 1944 году в освобожденном Минске от инфаркта», — так упоминается Кузьма Чорный в записанных воспоминаниях Григория Берёзкина.

Внук Кузьмы Чорного Николай Романовский говорит, что то, что о его деде Берёзкин здесь говорил, похоже на правду.
«О Чорном правдоподобно. «Уступки» — это то самое, чему в дневнике в 1944‑м Чорный записал: «После войны буду писать как хочу и могу».
Известно, например, что финал «Любы Лукьянской» был переделан, так как авторский вариант не пропустила цензура в лице Дадиомовой, также об этом я слышал от мамы. Было мамино интервью, опубликованное в томе «Человек — это целый мир» серии ЖЗЛБ («Жизнь знаменитых людей Беларуси»). Когда в 1988 году в «Полымі» напечатали полностью дневник Чорного, Дадиомова ещё жила, маме позвонила и возмущалась, как он мог так написать. И тогда о «Любе Лукьянской» сказала, что там финал был какой-то не такой, и она настояла, чтобы автор его переписал и «улучшил».
Одна неточность: умер Чорный не от инфаркта, а от инсульта, второго (первый инсульт был в Москве). И цитата из дневника об Ури Финкеле неточная, хотя в реальной записи не меньше благожелательности», — говорит внук Кузьмы Чорного.

Николай Романовский признается, что даже для него, осведомленного в теме репрессий, было много нового, прежде всего — характеристики конкретных личностей.
«Не вспомню, описал ли кто ещё атмосферу 1937 года в Минске настолько выразительно. О следователе в 1945‑м и «На чем мы остановились?» я слышал ещё в советское время от своей мамы Рогнеды, которая с Берёзкиным была знакома. О расстреле под Червенем тоже, но в сглаженной версии — и больше верю тому, что сейчас читаю, тем более что слышал ранее пересказ и этого описания», — говорит Николай Романовский.
«Когда уголовные дела станут доступны, мы сможем прокомментировать воспоминания Берёзкина»
Насколько можно доверять этому конспекту воспоминаний Григория Берёзкина?
По мнению Тихона Чернякевича, когда он рассказывает о себе, этому можно полностью доверять. Когда о других — могут возникнуть определенные вопросы.
«О своем аресте он говорит правду, рассказывает о своих следователях. Всё остальное, конечно, должно быть проверено. Потому что Берёзкин не был непосредственно при арестах других писателей. С другой стороны, он источник — от родных, друзей, которые передавали ему определенные сведения об обстоятельствах арестов, о том, кто в них участвовал, кто следователи, какие были доносы, кем написаны. Всё это бурлило, слухи бурлили.
А сами уголовные дела до сих пор закрытые, они лежат в КГБ, и исследователи уже давно не имеют доступа к этим архивам.
Когда уголовные дела станут доступны, мы сможем точно прокомментировать воспоминания Береёзкина», — считает Тихон Чернякевич.
Тогда могут открыться еще более интересные страницы истории, грустные и драматичные.
«Выйшлі стройнымі радамі загарэлыя касцы. У кашулях ярка-белых, у чырвоных паясах…». Вам еще не захотелось перечитать Петра Глебку?
«Сломленный, сломленный, совершенно сломленный». Но правда ли сломленный? Владимир Дубовка после 28 лет неволи
«В когтях ГПУ». Столетие опасной наивности и бесполезных мечтаний белорусской эмиграции
Бронислава Тарашкевича пытали и заставили дать показания на 249 человек. Нашли соответствующий документ










































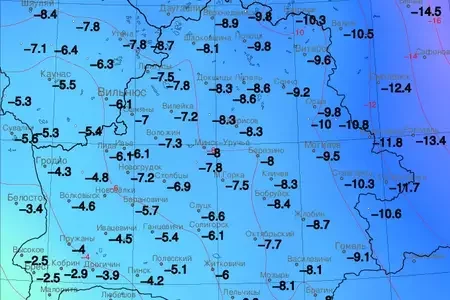

Комментарии